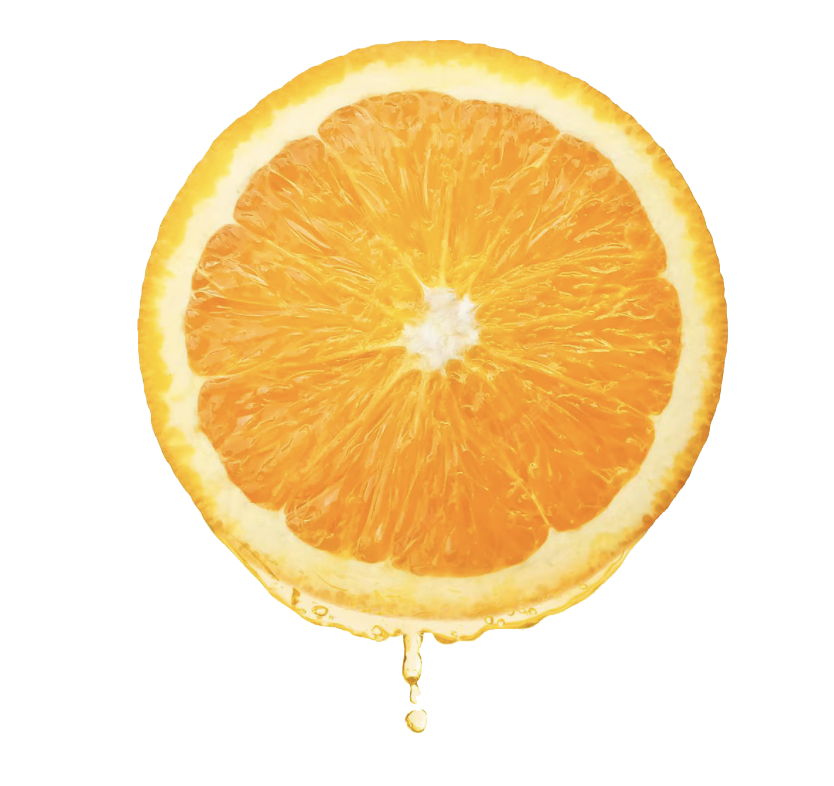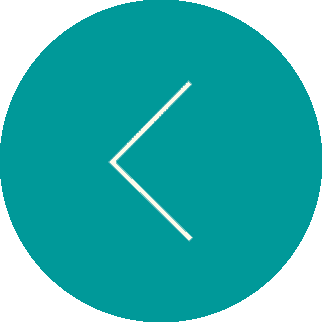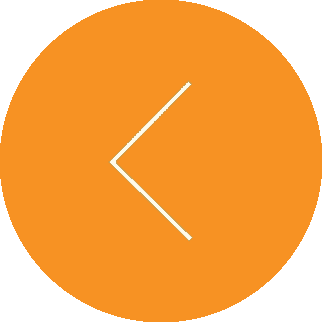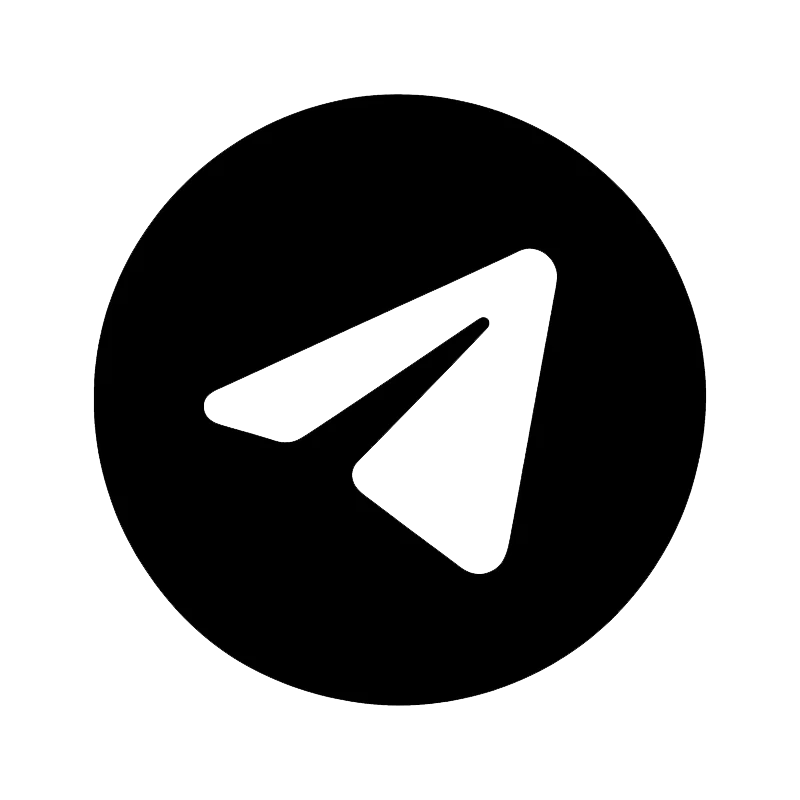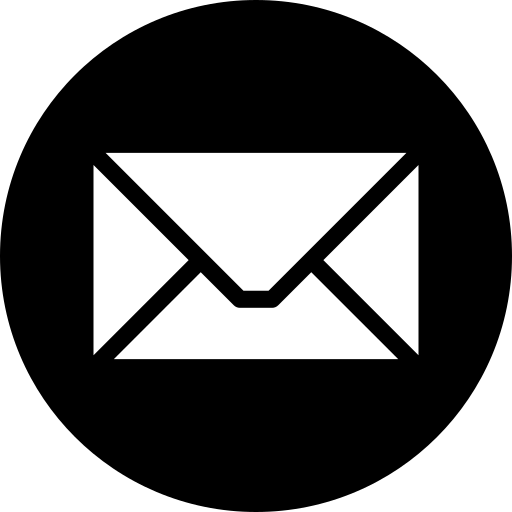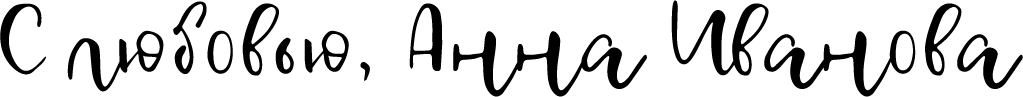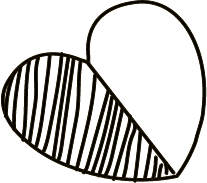Не так давно на русском языке вышла книга Тома Николса «Смерть экспертизы». Главный тезис, который отстаивает автор (и с ним сложно не согласиться): социум переживает кризис доверия к профессионалам — во всех сферах и на всех уровнях.
«Наступили опасные времена. Никогда еще так много людей не имело такого доступа к столь обширным знаниям, и при этом не выражало стойкое нежелание узнать хоть что-то.»
По мнению Николса, мы наблюдаем процесс обесценивания экспертного знания. Успех борьбы за равные права в политической системе привел к тому, что люди поверили, будто каждое мнение по любому вопросу так же хорошо, как любое другое.
«Это еще хуже, чем незнание: это безосновательная самонадеянность, озлобленность растущей культуры нарциссизма, не способной пережить малейшего намека на любого рода неравенство» — пишет Николс.
За 10 лет до Николса академик Андрей Анатольевич Зализняк поставил обществу очень похожий диагноз. В речи на церемонии получения литературной премии Александра Солженицына в 2007 году академик Зализняк, среди прочего, сказал:
«Мне хотелось бы высказаться в защиту двух простейших идей, которые прежде считались очевидными и даже просто банальными, а теперь звучат очень немодно:
1) Истина существует, и целью науки является ее поиск.
2) В любом обсуждаемом вопросе профессионал (если он действительно профессионал, а не просто носитель казенных титулов) в нормальном случае более прав, чем дилетант.
Им противостоят положения, ныне гораздо более модные:
1) Истины не существует, существует лишь множество мнений (или, говоря языком постмодернизма, множество текстов).
2) По любому вопросу ничье мнение не весит больше, чем мнение кого-то иного.
<…> Источники этих ныне модных положений ясны: действительно, существуют аспекты мироустройства, где истинач скрыта и, быть может, недостижима; действительно, бывают случаи, когда непрофессионал оказывается прав, а все профессионалы заблуждаются.
Капитальный сдвиг состоит в том, что эти ситуации воспринимаются не как редкие и исключительные, каковы они в действительности, а как всеобщие и обычные.»
Свободный доступ к информации, которую дал человечеству интернет, привёл к развитию заблуждения, что мы обладаем (или можем без труда возобладать) знанием по любой интересующей нас теме. В этой системе координат работа эксперта воспринимается в лучшем случае как прихоть, блажь, необязательная расточительная роскошь для тех, кому «лень погуглить самому», в худшем — как намеренное запудривание мозгов. Николс называет это «приверженность интеллектуальной самодостаточности», другие англоязычные авторы оперируют словом Pride (гордость, самомнение), когда человек ощущает ниже своего достоинства платить кому-то «за совет».
Объяснить кризис доверия к экспертам воинствующим невежеством аудитории очень соблазнительно. Но, как говорится в пословице, нельзя хлопнуть в ладоши одной рукой. Ответственность за сложившуюся ситуацию в равной мере лежит на самих экспертах. Я хочу рассказать про две причины в основе этого кризиса, которые лично мне представляются самыми важными.
(Дальше не пересказ книги, а мои размышления на эту тему).
Причина 1. «Герметичность знания» или, проще говоря, распространенная среди профессионалов установка: «Не⦁ваше дело знать, как это работает, работает⦁— вот и⦁радуйтесь».
Истоки такого отношения к аудитории более чем понятны: современная наука выросла из богословия. А в богословии есть сакральное знание, толкование которого — привилегия узкого круга избранных, и есть запрет это знание профанировать, т. е. делать доступным непосвященным. Если ты простой смертный, твое дело не вникать, а верить.
К сожалению, приверженность этой установке популярна и в наши дни. Редкий врач, например, берет на себя труд объяснить, как, зачем и почему работают его назначения. Иногда за этим стоит интеллектуальный снобизм: «Что я буду на вас время тратить, вы все равно не поймёте». Иногда — объектное отношение: слесарь же не объясняет унитазу, как работает вантуз. Пациент в любом случае испытывает то, что я бы назвала «дефицит контроля».
Проблема в том, что экспертам мы платим не за результат, а именно за контроль. Не за то, что для нас сделали, а за собственное — приобретенное — знание, что делать, и понимание как. И если профессионал не утруждает себя объяснениями, мы все равно найдем, у кого их «купить». Увы, вот многих случаях это будут крикливые дилетанты или вовсе предприимчивые шарлатаны.
Том Николс про это пишет так: люди все чаще остаются глухи к голосам самых осведомленных специалистов, обладающих глубокими познаниями в науке, общественных дисциплинах и медицине, и прислушиваются к измышлениям знаменитостей, популистской политической риторике и мифам, распространяемым в Интернете.
Вывод: главная задача эксперта — «распутывать пряжу» в голове у аудитории. В этой битве выигрывает не тот, кто больше/лучше знает, а тот, кто готов вносить ясность. Потому что никому из нас не нравится чувствовать себя унитазом.

Причина 2. Размывание границ экспертности, или, говоря словами Николса: специалисты сами усугубляют проблему, когда берутся отвечать на⦁вопросы, находящиеся за⦁пределами их⦁компетенции.
Это одна из⦁главных ловушек продвижения в⦁экспертных нишах. Персональная известность эксперта в⦁норме формируется так:
Вы высказываете свое профессиональное мнение — К вашему мнению начинают прислушиваться — У вас начинают спрашивать мнение.
Чем больше ваша известность, тем чаще вас спрашивают (это хорошо) и тем шире круг вопросов, которые предлагают прокомментировать (это уже совсем не так хорошо).
Если вы, предположим, психолог, специалист по подростковым суицидам и добились в этой теме некоторой известности, с большой вероятностью со временем вас начнут спрашивать про любые суициды и любых подростков, а далее — про младенцев, родителей, послеродовую депрессию, разводы, домашнее насилие, феминизм и «что-то такое про психологию, прокомментируй, #тыжпсихолог».
В конце концов, вы рискуете однажды обнаружить себя на кулинарном шоу за обсуждением рецепта борща, потому что «сытый муж — счастливая семья, а счастливая семья — лучшая профилактика подростковых суицидов».
Здесь печально не столько то, что ваша аудитория уже не способна понять, в чем именно вы эксперт, и в растерянности разбегается, сколько то, что ни в мужьях, ни в борщах вы не специалист и вашему мнению по этому поводу — грош цена. Трудно упрекнуть аудиторию, что она именно так и подумает.
Вывод: «Специалист широкого профиля» — прямая противоположность эксперта. Продвижение в экспертных нишах — это движение не вширь, а вглубь. Продвигать себя как эксперта — это, среди прочего, смелость отказываться от обсуждения всего того, в чем ты не эксперт.